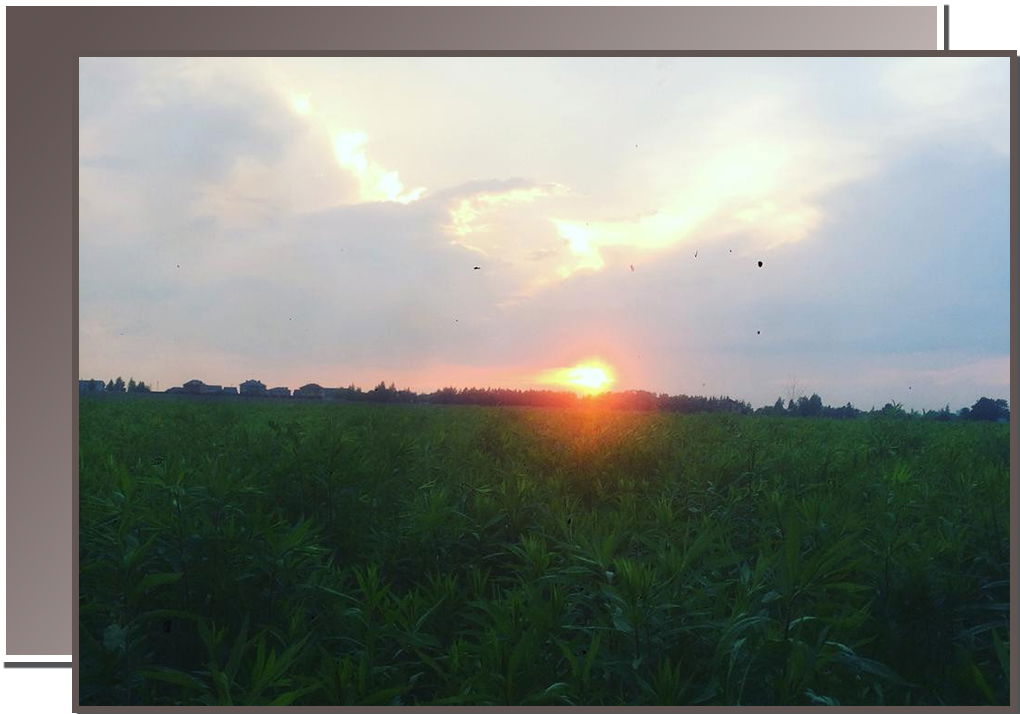
Если позволите, я начну свою статью с того, что напомню тем, кто ее знает, и прочту впервые незнакомым с ней, молитву гештальтиста так, как ее сформулировал Фриц Перлз: Я – это я, а ты – это ты. Я делаю свое, а ты делаешь свое. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. А ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. И если нам случится найти друг друга - это прекрасно. Если нет - этому нечем помочь. Мне представляется, что самое сложное здесь это первые слова: «я – это я!». И в принципе моя лекция о том – а всегда ли я – это я? Всегда ли я равен (конгруэнтен) самому себе. Конгруэнтность – один из основных теоретических конструктов в теории и практике клиент-центрированной психотерапии Карла Рэнсома Роджерса. Я бы даже назвала его подход не столько клиентоцентрированным, сколько «центрированным на человеке», как он и называется во многих пособиях. Так что же такое конгруэнтность (и инконгруэнтность), какое нам вообще до нее дело, и какое она имеет отношение к предательству? Начну я, может быть немного издалека, и спрошу вас вот о чем: «Был ли на самом деле предателем самый известный из предателей Иуда Искариот?» Да, вроде как бы предатель, продал своего Учителя за 30 серебряников. И в этом смысле Иуда – это Иуда. И никто другой. Он в этом акте предательства он абсолютно конгруэнтен (равен) самому себе. Выбравшись из дебрей теологии (учения о боге), попадем в дебри этиологии (учения о происхождении слов и понятий). Возьмем сам термин «предательство». В словаре Ожегова находим: «Предательство – вероломство, коварство, обман». Не очень-то много объясняет. Попробуем с другой стороны, «предать» - это, вероятно, значит «передать», «передать что-то важное, что должно принадлежать, например, мне, а передали другому человеку». Преданный – исполненный верности к кому-либо или чему-либо. То есть не ломающий эту самую веру в его верность. Сначала предан, потом предал. Если я правильно помню, то кажется в «Гардемаринах» звучит такая фраза: «Сердце принадлежит России, а честь – никому». В том смысле, что я предан Родине, но только до тех пор, пока эта преданность не заставит меня сделать то, что несовместимо с моими принципами. То есть я хочу остаться верным самому себе, и не предать самого себя. То есть я не стану отдавать, передавать то, что принадлежит только мне еще кому-то или чему-то как бы важно это «что-то» не было. Инконгруэнтность проявляется вовсе не обязательно в каких-то крупных, жизнеопределяющих моментах, а в простых каждодневных, ежечасных, ежесекундных ситуациях. Мы улыбаемся старому знакомому, когда не хотим улыбаться, показываем, что опечалены, когда вовсе спокойны, даже, если подруга или сослуживец рассказывает вам при этом «душераздирающую» историю. Улюлюкаем с соседским ребенком, хотя вовсе не любим детей, и сюсюкать сегодня вообще не расположены. Наше мелкое привычное предательство. Ко мне приходит клиентка и плачет: от нее ушел муж. Рассказывает совершенно искренне, что не ест, не спит, и даже уже мысли суицидальные стали появляться. А мне не грустно, не хочется плакать. И что мне делать в этой ситуации? Сделать жалостное лицо и посочувствовать ей, потому что так принято, так положено. Сказать о том, что больно видеть ее слезы, а если мне не больно? Можно сделать себя виноватой в том, что не нашла в себе сочувствия. Можно пристыдить и сказать себе, что я профессионально не состоятельна, никакой эмпатии к клиенту не испытываю. В общем, я легко могу пойти против себя, от себя. И каюсь, я частенько так и делаю. Но есть другая возможность – сказать себе: «я – это я, а ты – это ты» и выразить свое настоящее актуальное состояние. В данном примере, о котором я сейчас вспомнила, я сказала: «Ты говоришь о таких тяжелых для тебя вещах, а я как будто окаменела внутренне и мне хочется отстраниться». Клиентка посмотрела на меня и говорит: «Вот и он так же» - «Кто он?» - «Муж. Также отстраняется, также молчит и только смотрит» - «Что ты чувствуешь, вспоминая это?» - «Злость и обиду». Ну, как вы понимаете, сессия дальше продолжается, и мы разворачиваем эти ее процессы. Я привела этот пример не как доказательство моей беспрецедентной способности к конгруэнтному существованию, а как иллюстрацию того, что, то, что мы считаем поддержкой для другого человека, не всегда ею на самом деле является. Нам может казаться, что поддержка – это или активный оптимистичный настрой, которым мы пытаемся вытащить другого человека из депрессии, или наша жалость, сочувствие. Но это вовсе не всегда так. Настоящая поддержка – это когда мы доверяем сами себе и говорим о том настоящем, что с нами происходит. Если бы я дежурно поохала и поахала бы вместе с клиенткой, то я думаю, вы себе легко представите, что это только привело бы наш контакт в тупик. Ведь, чем больше Я – ЭТО Я, ТЕМ БОЛЬШЕ У ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ СОБОЙ И В КОНТАКТЕ СО МНОЙ И ПОТОМ С ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЧЕМ БОЛЬШЕ Я - ЭТО Я, ТЕМ БОЛЬШЕ ТЫ - ЭТО ТЫ. Такой вот парадокс. Помните как в примере с Иудой. Чем больше Иуда – это Иуда, тем больше Христос – это Христос. В своей книге «Взгляд на психотерапию. Становление человека» Роджерс пишет, о том, что он ставит целью жизни, видя ее в свете отношений со своими клиентами. Для этого он приводит слова известного философа-экзистенциалиста Серена Кьеркегора: «Быть тем «Я», которым ты действительно являешься». Роджерс далее пишет: «Я полностью осознаю, что это может звучать так просто, что кажется абсурдным. Быть тем, кто ты есть, кажется скорее утверждением очевидного факта, чем целью». Это, в сущности, и есть единственная цель любой терапии – помочь человеку быть тем «Я», которым он действительно является. И если мы говорим, что цель, например, гештальт-терапии – расширение зоны осознания или прерывание прерывания, то это лишь средства, а не цели. Что, например, значит «расширение зоны осознания»? То есть человек больше знает, видит, осознает те части самого себя и окружающего его мира (что суть одно и тоже, поскольку в гештальте нет концепции отдельного, изолированного индивида, а есть концепт «организм-среда»), которые раньше не были в зоне его осознания. И в этом смысле он все больше становится самим собой, просто потому, что больше знает о себе и способен действовать по-новому в соответствии с этими новыми для него знаниями. Или – «прерывание прерывания». Так вот первое прерывание из этих двух – это когда человек (в разных формах: ретрофлексируя, интроецируя, проецируя и т.д.) пытается не быть в данный момент времени, здесь и теперь, самим собой, не дать себе шанса встретиться с собой настоящим. А наша задача – прервать это привычно невротическое предательство и рискнуть быть здесь и теперь в контакте с этим человеком и самим настоящими. И если нам случится найти друг друга - это прекрасно. Если нет - этому нечем помочь. Давайте еще раз обратимся к парадоксальной теории развития Бейссера. Помните: «Изменение происходит тогда, когда человек становится тем, кто он есть, а не тогда, когда он пытается быть тем, кем он не является». Поэтому, следствие первое, изменение – это вовсе не измена себе. Изменение не идет в сторону от плохого к хорошему, от неправильного к правильному. Изменение идет по пути от неЯ к Я. Причем этой путь, только на разных его этапах, проделывают оба: и терапевт и клиент. Следствие второе: изменения не возникают в результате принуждения — собственного или другиx людей. Я всей душой за недирективность позиции терапевта. Я не знаю, как надо поменяться этому конкретному человеку, клиент – единственный эксперт своей жизни. Следствие третье: гештальт-терапевт — это не делатель изменений, его основная стратегия состоит в том, чтобы поощрять клиента быть там, где он есть, и тем, кто он есть. Поощрять его попытки верности самому себе. Поощрять их тем, что сам рискуешь стать самим собой. Здесь и теперь. |